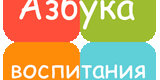[ad_1]
Когда пришла война, судьбы и стихи 25 молодых поэтов только начинались. Но и по обрывкам биографий и строк можно судить: у этого талантливого поколения есть чему поучиться. Книга о нём, составленная Дмитрием Шеваровым, стала редкой, не успев появиться на свет в издательстве «Российской газеты».
Наследники Империи
Трудно себе представить: юные поэты, без возврата ушедшие на войну – ровесники наших детей. И ещё труднее представить их углублёнными в игры и гаджеты, свободными от решения взрослых проблем. Мальчикам сорок первого года, участникам Великой Отечественной войны, было не до игр, и никто не заботился о том, чтобы продлить их детство.
Некоторым из молодых сочинителей в начале сороковых нет и двадцати, но они уже тонко чувствуют поэзию и сами пишут по-взрослому. Так сочинять стихи, когда мало что пережито, можно, только прочитав километры поэтических строк. И эти ребята читали – серьёзно, избирательно и вдумчиво.
Они были прекрасно воспитаны в семье и получили хорошее образование в школе. Родившиеся накануне и после революции, эти мальчики восприняли от родителей и учителей не пафос первых советских пятилеток. Они впитали те представления о культуре, которые их матери и отцы почерпнули во времена Российской Империи.
Их советские педагоги учились в классических гимназиях, росли на Фете и Баратынском, Пушкине и Дельвиге.
Знание мировой литературы, памятование о Боге и православной вере – сокровища, которые передаются по наследству. Смогут ли наши дети унаследовать это от 25 ровесников?
Дмитрий Шеваров, автор-составитель «Ушли на рассвете», замечает:
«В ХХI веке 9 мая… течёт людская река – идёт шествие Бессмертного полка. И вдруг обжигает мысль: а как же те мальчики, чьи фотографии некому нести? Ведь несут родные родных, а у тех … не успевших жениться ребят не осталось потомков…
Мало кто из ребят успел до войны выпустить сборник стихов или опубликовать свои стихотворные опыты в литературных журналах. Многие не увидели напечатанной ни одной своей строчки. Их архивы, и без того скудные, утрачены в войну или после неё… От некоторых юношей… и рукописей не осталось – лишь свидетельства близких, друзей или однополчан о том, что они писали стихи.
… Мальчики 1941 года видели себя в русской культуре, дышали ею и предполагали жить. И это позволяет нам… предполагать в них поэтов».
Главная сердечная мысль автора – наверное, в этих словах:
«Мы забыли, какое поле небытия лежит за словом «война». Война – это пустой стул рядом. Это чемодан в чулане или на антресолях, до которого и три четверти века спустя родным больно дотронуться».
Почитать о судьбах и стихах юношей, среди которых не вернулись с войны, может быть, новые Пушкины и Лермонтовы ХХ века, хорошо и в семейном кругу, и наедине с собой.
Собранные Д. Г. Шеваровым и всеми, кто ему помогал, редкие материалы помогут подготовиться к уроку, курсовой или дипломной работе, подскажут темы для исследований.
Такое издание было бы востребовано в каждой школьной и вузовской библиотеке, но пока приобрести его нет возможности. «Ушли на рассвете» издатели готовили как памятный подарок ветеранам, участникам Парада к 75-летию Победы, тираж книги всего 400 экземпляров.
Хотелось бы привлечь внимание тех, кто принимает решения в сфере образования и от кого зависит, чтобы нужная книга дошла до юного и молодого адресата.
Нравственным, эстетическим и патриотическим чувствам можно учиться. Как можно учиться правдивым, объективным представлениям о русской словесности XX века, – словно говорит издание.
Будем надеяться, сборник ещё придёт к читателю многотысячным тиражом.
Нить Слуцкого
Вчитываясь в строки юных поэтов, понимаешь – это не хор, а отдельные голоса, непохожие друг на друга. Уникальна и каждая жизненная история.
Показалось, что нитью, связующей этот довольно разнородный материал, стала личность большого русского поэта Бориса Слуцкого.
 Молодые авторы ушли на рассвете своего творчества, а Борис Абрамович прошёл войну, прожил втрое дольше собратьев по оружию и перу и перешёл в мир иной в возрасте их дедов.
Молодые авторы ушли на рассвете своего творчества, а Борис Абрамович прошёл войну, прожил втрое дольше собратьев по оружию и перу и перешёл в мир иной в возрасте их дедов.
И всё-таки он – тоже из них. Не поэтому ли его имя и стихи, любимые строки его друзей звучат в книге своеобразным рефреном?
Слуцкий – и в воспоминаниях его соперника-друга Давида Самойлова о юном поэте Павле Когане.
И в строчках Михаила Кульчицкого: «Я раньше думал: «лейтенант» / Звучит: «Налейте нам»/ И, зная топографию,/ Он топает по гравию…» – именно их читает Борис Слуцкий на редких кадрах в фильме к столетию поэта, показанном по телеканалу «Культура» в прошлом году.
Бориса Слуцкого в конце сборника дважды цитирует писатель Алексей Симонов, напоминая, что книга Шеварова – «отголосок народной трагедии, потерянное тепло опустевшего дома, где недосчитались ушедших на войну сыновей».
Возможно, фигура Слуцкого присутствует, как говорят художники-монументалисты, для масштаба – представляя себе его личность и творчество, мы понимаем, до каких высот могли бы дорасти эти мальчики, останься они в живых.
Словом, в «Ушли на рассвете» немало культурных и духовных пластов, вопросов, над которыми стоило бы поразмышлять.
«В книге много документов, писем ребят, дневниковые записи. Я хотел, чтобы книжка была не моим голосом, а их голосами», – поделился в недавнем интервью АиФ Дмитрий Шеваров.
Однако его голос хорошо слышен во всем: в кропотливом и бережном отношении к редкому материалу, вдумчивом отборе текстов стихов и писем, составляющем особую симфонию. В истинно христианском, любовном и трепетном, отношении к человеку и непреходящей ценности его души. Словом, в той человеческой теплоте, которую не скроешь за лаконичными авторскими комментариями.
Наверное, дело в том, что Шеваров в книге – не столько журналист, сколько писатель, который по-особому слышит поэзию и прозаический текст. И не может не поделиться услышанным. Но не будем голословны. Вот что автор-составитель сборника Дмитрий Шеваров говорит сам, отвечая на вопросы «Азбуки воспитания».
«Поэты – не только те, кто дожил до славы, юбилеев и наград. Вовсе не те…»
– Дмитрий Геннадьевич, как возникла идея книги, когда Вы начали работать над ней, что стало отправной точкой для собирания такого сложного и редкого материала?

– Не могу сказать, что мной двигала идея. Даже точно – не идея. Двигало чувство: то, к чему мне выпало прикоснуться, надо как-то сберечь, передать из рук в руки. Книга – лучший для этого способ.
Подспудно книга возникла во мне 45 лет назад.
9 мая 1975 года мы с мамой шли по Свердловску, а навстречу нам шли фронтовики. Сегодня я ровесник этих фронтовиков.
Так вот, в то утро я насыпал себе в карман значков – часть коллекции, которой очень дорожил. Потом мы с мамой купили цветы. И вот мы шли по городу, и мама дарила фронтовикам цветы, а я – значки.
Мне было двенадцать лет, но я уже вникал в мамину работу. Моя мама Зоряна Леонидовна Рымаренко работала редактором на Свердловском телевидении и готовила передачи о погибших на войне поэтах – Владиславе Занадворове, Леониде Вилкомире, Ариане Тихачике… Эти имена уже тогда стали мне родными.
– В составлении сборника помогало много людей. Какие встречи особенно запомнились, как продвигалась работа?
– Да, список тех, кто помогал, занимает в начале книги ни одну страницу. А самая памятная встреча, пожалуй, – с Ольгой Глебовной Удинцевой, племянницей одного из героев моей книги Димы Удинцева и дочкой Глеба Удинцева – океанолога, выдающего исследователя морских глубин. В честь Глеба Удинцева назван крупнейший разлом на дне Мирового океана.
Род Удинцевых – удивительный. Своими корнями он уходит на Урал, где служили несколько поколений священников Удинцевых и где Удинцевы породнились с родом Мамина-Сибиряка. Последние сто лет Удинцевы живут в деревянном доме в «Соломенной Сторожке» – так назывался кооператив учёных, возникший в 1920-е годы близ Тимирязевской академии.
Название кооперативу дал располагавшийся здесь храм святителя Николая в Соломенной Сторожке. Сейчас эта научная деревня оказалась посреди Москвы и то, что её до сих пор не смели с лица земли ошалевшие от денег застройщики – настоящее чудо.
Думаю, что один из истоков этого чуда – в том, что люди, жившие здесь, не отступали от веры и в самые мрачные годы гонений. В 1920-30-е годы в семье Удинцевых находили приют и утешение родные арестованных священников. После войны у семьи Удинцевых снимала мансарду великая пианистка Мария Вениаминовна Юдина. Сюда она приглашала Бориса Пастернака.
Из этого бревенчатого дома и ушёл на фронт поэт, литературовед и переводчик Дима Удинцев. Он погиб в 24 года в 1944-м.
– В тексте можно встретить такие ремарки: иногда всё решал единственный человек, который хранил старую переписку, стихи, записи – и только от него зависело, быть поэту однажды узнанным или уйти в небытие. Кто были эти люди, которые сохранили всё до наших дней?
– Спасибо, что обратили внимание именно на эту мысль. Она мне очень дорога. Дело в том, что судьба любого семейного архива всегда зависит от одного человека, ведь то, что находится в этом архиве, существует в единственном экземпляре.
Нигде на свете нет ни такой фотографии, ни такого письма, ни такой свернутой вчетверо записки на тетрадном листке. Всё единственно, всё уникально, всё неповторимо.
И если наследник, который волею судьбы распоряжается архивом, не понимает своей ответственности, если ему видится в архиве лишь гора пыльных пожелтевших бумаг – тогда может случиться беда. Архив исчезнет, а вместе с ним и память о человеке.
Вот мы говорили об Удинцевых. У Димы рано ушли родители, и его воспитывала тётя Наташа, сестра матери. После гибели племянника тётя Наташа собрала все, до чего дотрагивалась рука Димы. И когда мы с Ольгой Глебовной открыли два чемодана с архивом Димы, там был почти идеальный порядок.
Были датированы все Димины рукописи, начиная со стихов, написанных в детстве. Тётя Наташа составила подробную хронику жизни Димы – такая бывает только в собраниях сочинений у классиков.

Другой пример – моя мама. Если бы она в 1980-е годы не подготовила телевизионную передачу об Ариане Тихачеке, о таком поэте бы никто не узнал, и он не был бы среди героев моей книги.
Готовясь к передаче, мама переписала письма Ариана и стихи. Записала воспоминания о нем одноклассников. Хотя 15-минутный сюжет в телевизионной передаче, конечно, не требовал такой дотошности.
Запись передачи не сохранилась, а рабочие блокноты мама сберегла. И когда я взялся за книгу о погибших ребятах, оказалось, что сохранившиеся у мамы материалы об Ариане – это всё, что о нём уцелело как о поэте. В музеях и государственных архивах ничего нет. В семье тоже ничего не осталось.
– Из Вашего очерка о сибирском поэте Коле Копыльцове я поняла, что первым о нём написал Ваш отец Геннадий Николаевич Шеваров.
– Да, это было 55 лет назад, в 1965 году. Родители тогда работали на Алтае и папа во время командировки в Бийск встретился с тетей Коли Копыльцова, хранивший его архив и библиотеку, потом разыскал его друзей, написал о нем большой очерк и первым опубликовал его стихи…
– У книги есть подзаголовок – «Судьбы и стихи». Очевидно, что молодые жизни дороже строк. И всё же, почему Вы акцентируете внимание читателя на судьбах?
– Потому что, зная что-то о судьбе поэта, мы иначе читаем его строки. Другими глазами.
– Рассказ о судьбах молодых авторов, от которых не сохранилось ни строчки, занимает почти пол книги. Вы называете их поэтами, не используя сослагательного наклонения: могли бы стать ими, если бы…
Все они, независимо от образования, дарования, количества публикаций для Вас поэты, и Вы приглашаете читателя разделить эту точку зрения. Почему?
– Вспомнил сейчас песню «Поэты» своего однокашника по журфаку Саши Башлачева. Она отвечает на ваш вопрос. Первая строчка в песне: «Поэты живут. И должны оставаться живыми…» И дальше: «Не верьте концу…» Саша погиб в том же возрасте, что и герои моей книги. Ему можно верить.
Поэты – не только те, кто дожил до удостоверения союза писателей, до славы, юбилеев и наград. Вовсе не те. Тут вообще не люди решают. Во всяком случае – не только они.
Вот ещё одна строчка все из той же Сашиной песни: «Мы можем забыть всех, что пели не так, как умели…» Люди по слепоте своей и суетности могут забыть. Господь не забудет. И когда я собирал книгу, то старался помнить, что кроме земной точки зрения есть и небесная.
– Наверное, помнить и сожалеть можно только о том, что знаешь и любишь. Ваша книга – о памяти личной – помогает узнать и полюбить этих мальчиков, а значит, не забыть. Кто из них особенно полюбился Вам?
– Они – ровесники моих детей, поэтому всех люблю, всех жалею.
– Говоря о творчестве поэта Димы Удинцева, Вы замечаете: «Может показаться, что это стихи подростка пушкинских времён, а не школьника эпохи тракторов…»
То же и в других стихах сборника – мало примет времени, идеологии, нет ярости, культа ненависти к противнику, – того, с чем многие ассоциируют военную поэзию. Пишут о любви, о природе, о вечном. Почему это так?
– А это и не военная поэзия, а довоенная. На фронте было не до стихов.
Если ребятам иногда и выпадала возможность написать что-то в стихах, то это письма домой. И это скорее антивоенная поэзия, а не военная.
Лишь несколько молодых людей успели наладить сотрудничество с армейскими и дивизионными многотиражками. Но и для военных газет они писали совсем не агитки. Георгий Суворов, который рос сиротой, писал стихотворные посвящения друзьям, Володя Калачев – о родном доме…
– Вы делитесь с читателем ощущением, что наивными романтиками поэты не были, не были и ура-патриотами. Но тогда кем они были? Откуда взялось это особенное поколение? На чём было воспитано? В чём выражалась его любовь к Отечеству?
– Сейчас почему-то принято представлять юношей 1941 года слепыми котятами. Мол, они были патриотами, потому что не знали правды о происходящем в стране, боготворили Сталина. Ничего подобного – они знали не меньше, чем мы с вами. Только знали они не из книг и Интернета, а из опыта своего сердца, своих переживаний.
Почти в каждой семье были арестованные, сосланные или расстрелянные. Поэтому ребята смотрели на жизнь без иллюзий.
В них совсем не было инфантильности. Они планомерно готовили себя к испытаниям. Закаляли волю, занимались спортом, изучали языки. Вырабатывали собственную точку зрения на все события.
Прочитайте в книге дневники Василия Кубанёва – парень из воронежской глубинки в 18 лет видел намного дальше и глубже чем, к примеру, нарком иностранных дел.
Или перелистайте переписку Димы Удинцева с братьями. Рубен, младший брат Димы и будущий художник, пишет из армии в феврале 1941 года, за четыре месяца до войны:
«Мы родились в этот страшный период, когда людям стало тесно на земле и им приходится уничтожать друг друга. Ужасное время, когда искусству приходится пробиваться через горы трупов, через разгул животных нравов…
Нравственное уродство впиталось к нам в кровь… Будущее поколение, наверное, будет очень бедно писателями (настоящими!), музыкантами и художниками, его покалечат с самого появления на свет.., наполняя музыкой маршей и песен, воспевающих, славословящих войну…»
Вот с чем в душе они уходили на фронт. Они понимали, что главное поле битвы – душа человека. И чтобы победить фашизм, надо победить зло в своей душе.
Во всей поэзии о войне трудно найти более христианские строки, чем те, что нам оставил комсомолец Вася Кубанёв:
А кончится битва –
Солдат не судите чужих.
Прошу, передайте:
Я с ними боролся за них…
– Да, так мог бы написать только духовно зрелый человек, может быть, даже инок. Очень многое в книге не стыкуется с тем, что мы знаем о том времени. У одного из погибших юношей-поэтов был свой духовник, другой хранил бабушкино Евангелие и мечтал поговорить со священником, третий писал о любви к врагу. Чем это объяснить?
– Глубиной и сложностью эпохи, которую мы плохо себе представляем. Я с детства, как и все мои ровесники, много читал и смотрел о войне. Как журналист говорил с людьми, прошедшими войну. Беседовал с писателями-фронтовиками Виктором Астафьевым, Евгением Носовым, Андреем Турковым…
В общем, я что-то знал. Но когда стал читать дневники погибших 20-летних поэтов, разбирать их пожелтевшие, будто обожжённые, письма – переживал потрясение. Прежде всего, от духовной зрелости, даже мудрости этих мальчиков. А ещё – от эрудиции.
Их письма – путеводитель по мировой культуре. Ребята перечитывают Евангелие и «Войну и мир», переводят с английского и немецкого, обсуждают Хемингуэя, Эренбурга и Пришвина.
Кстати, Дима Удинцев переписывался во время войны с Михаилом Пришвиным, а Женя Разиков – с Константином Паустовским.
– Во многих очерках мелькает мысль, что, выживи эти мальчики на фронтах войны, сохрани их провидение, и современная поэзия была бы другой. Можем ли мы хотя бы предположить, какой?
– Да что поэзия! – жизнь была бы другой.
– В конце книги – своего рода помянник, где перечислены имена, факты из жизни и публикации молодых поэтов, далее – два завещания совсем юных людей.
Показалось, за всем этим брезжит христианская надежда на жизнь будущего века, на то, что судьбы и стихи не исчезли, каждая личная история имеет продолжение.
О чем Вы размышляли, завершая книгу? Думали ли Вы об этом или больше о том, что Россия потеряла?
– Я думаю о ребятах только как о живых. Поэтому, когда работа завершалась, невольно думал о том, а понравилась бы им такая книга или нет.
– И что вы думаете сейчас, когда книга вышла?
– Мне кажется: они бы её приняли. Потому что книга получилась строгой. Без сиропа. Ещё думаю: и маме моей она бы понравилась. Ведь в ней исполнилось то, к чему мы оба стремились. Но мама ушла. Это случилось 9 апреля – в тот день, когда книгу отправили в типографию.
– В предисловии Вы пишете, что в деле поиска молодых поэтов, погибших в Великой Отечественной, рано ставить точку. Что это будет: новая книга, новые очерки в РГ?
– Когда речь идёт о памяти, какая может быть точка? Только многоточие…
Беседовала Валентина Киденко
Фото из архива Дмитрия Шеварова и свободных источников
«…Я не хотел участвовать в параде»
«…Вечерние сумерки слишком быстро переходят в утренние. Не звоните, будильники. Не греми, рукомойник. Помолчите, репродукторы. Дайте дописать стихи».
Дмитрий Шеваров.
Пока книга о молодых поэтах не доступна широкому кругу читателей, приведём отрывки из писем и стихи тех, кто ушли на рассвете.
Леонид Крапивников
Геньке
Навсегда мы в сердце сохранили
Солнечные пятна на стене.
Мы ладонью зайчиков ловили,
Не поймали. Нет.
Нынче наше детство миновало.
Отзвенело, как ручьи весной.
Мы с тобой шагали от вокзала
Незнакомой улицей прямой.
Только глаз одних не позабыли,
У которых смех на самом дне.
Счастье мы ладонями ловили.
Не поймали. Нет.
1938-1940
Борис Смоленский
***
Сегодня наш последний вечер,
Темно, и за окном январь.
Ни слова, ни огня, ни крика.
Пусть тишина как на пари.
Открой рояль. Сыграй мне Грига
И ничего не говори.
Молчи. Пусть будут только тени
На клавишах и на висках.
Я спрячу голову в колени,
Чтоб тишину не расплескать.
1939
***
Я сегодня весь вечер буду,
Задыхаясь в табачном дыме,
Мучиться мыслями о каких-то людях,
Умерших очень молодыми,
Которые на заре или ночью
Неожиданно и неумело
Умирали,
не дописав неровных строчек,
Не долюбив,
не досказав,
не доделав…
1939
Николай Майоров
В Михайловском
Смотреть в камин. Следить, как уголь
Стал незаметно потухать.
И слушать, как свирепо вьюга
Стучится в ставни.
И опять
Перебирать слова, как память,
И ставить слово на ребро,
И негритянскими губами
Трепать гусиное перо.
Закрыть глаза, чтоб злей и резче
Вставали в памяти твоей
Стихи, пирушки, мир и вещи,
Портреты женщин и друзей,
Цветных обоев резкий скос,
Опустошённые бутылки,
И прядь ласкаемых волос
Забытой женщины, и ссылки,
И всё, чем жизнь ещё пестра,
Как жизнь восточного гарема.
…И досидеться до утра
Над недописанной поэмой.
Лето 1937
***
Я с поезда. Непроспанный, глухой.
В кашне измятом, заткнутом за пояс.
По голове погладь меня рукой,
Примись ругать. Обратно шли на поезд.
Грозись бедой, невыгодой, концом.
Где б ни была – в толпе или в вагоне, –
Я всё равно найду,
Уткнусь лицом
В твои, как небо, светлые
Ладони.
1940
***
О нашем времени расскажут,
Когда пройдём, на нас укажут
И скажут сыну: – Будь прямей!
Возьми шинель –
покроешь плечи,
Когда мороз невмоготу.
А тем – прости: им было нечем
Прикрыть бессмертья наготу.
1940
Василий Кубанёв
Из писем Таисии Шатиловой и Вере Клишиной
10 ноября 1937
…Когда мне было лет шесть, Тасенька, бабушка читала мне вслух Евангелие, пела духовные стихи и рассказывала страшные истории о жизни великих грешников и великих мучеников. Два года тому назад бабушка приехала к нам и привезла мне в подарок Евангелие и молитву.
Молитва эта будто бы спасает от смерти. Бабушка заставила меня положить её в карман, но я вынул её оттуда и не знаю, куда положил. А Евангелие читаю и поныне.
Мне во что бы то ни стало необходимо сблизиться с каким-нибудь священником. А ты знаешь, как это опасно: если об этом узнают в школе, то мне не миновать исключения.
13 июня 1938
Пусть даже я никогда не научусь писать хорошие книги – не беда! У меня остаётся жизнь, которая – как бы ни была она мала и как бы ни казалась бедна – всегда сильнее книг, потому что она – вечна и сверкающа, а книги – только слабые и краткие отблески её.
21 ноября 1938
Для меня совершенно безразлично сейчас – доберусь ли я до высот славы. На черта она мне? Чтобы мучиться? Но мне отнюдь не безразлично, доберусь ли я до высот мастерства. Это – цель моей жизни.
2 февраля 1939
Кажется, что весь ты – сердце, одно лишь тёплое сердце…
28 февраля 1939
Мне страшно иногда становится даже от того, как я к тебе привязался, привык, приблизился. Очень страшно. Страшно потому, что какой-то нутряной голос, сокровеннейший голос, который никогда меня не обманывал, говорит мне – даже не говорит, а смутно внушает, что всё это кончится, оборвётся, рухнет.
30 апреля 1939
Я так тебя люблю, ангел мой, душа моя, сестра моя…
***
По полю прямому
В атаку идут войска,
Штыки холодеют,
Колотится кровь у виска.
Из дальнего леса,
Из тёмного леса – дымок.
Один покачнулся,
К земле прихильнулся и лёг.
– Товарищ, прости нас,
Чуток полежи, погоди,
Придут санитары,
Они там идут позади.
– Я знаю. Спасибо.
Ребята, вот эту шинель
Потом отошлите
В деревню на память жене.
А кончится битва –
Солдат не судите чужих.
Прошу, передайте:
Я с ними боролся за них.
1940
Павел Коган
Из письма Павла Когана другу. Июль 1942 года
«…3-го был бой, а 4-го – день моего рождения. Я шёл и думал, что остаться живым в таком бою все равно, как ещё раз родиться.
Сегодня у меня вырвали несколько седых волос. Я посмотрел и подумал, что этот, наверно, за ту операцию, а этот вот за ту…
Родной, если со мной что-нибудь случится, – напиши обо мне, о парне, который много хотел, порядочно мог и мало сделал».
***
Тебе опять совсем не надо
Ни слов, ни дружбы.
Ты одна.
Шесть сотен верст до Ленинграда
Заснежены, как тишина.
А я пишу стихи, которым
Увидеть свет не суждено.
И бьют косым крылом просторы
В моё обычное окно.
И, чуть прищурившись, я слышу,
Как каплет с крыш,
Я слышу, как,
Шурша, как шёлк,
Спешат по крышам
Старинной выковки века,
Как на распахнутом рассвете
Ты слезы вытерла с лица.
Так мир устроен –
дым и ветер,
Размах и ясность до конца.
1937
Владислав Занадворнов
***
Моих друзей не надо искать
На кладбищах городских,
В два метра длиной кровать
Кажется тесной для них.
По-братски обнявшись, они лежат,
Воинский выполнив долг.
Словно выспаться спешат,
Пока тревогой не поднят полк.
Но, заглушая метели плач,
Без отдыха, день за днём,
Над ними каменный трубач
Трубит, задыхаясь, подъём…
(Из довоенных стихотворений)
22 июля 1942
…Часто вспоминаю то, что было: какой-нибудь занятный случай, чью-нибудь улыбку, невзначай сказанные слова, чей-нибудь голос, – тысячи мелочей, которые вдруг делают живым давно умершее.
21 августа 1942
…Но иногда, моя любимая, нужно быть ко всему готовым. Я не верю в это, но если я не вернусь, – помни, что я тебя любил всеми силами души моей, – как только умел, и с каждым месяцем, с каждым годом привязывался все больше и больше к тебе. И сегодня, девочка, я не буду трусом, я могу наделать каких-нибудь глупостей, но только не по трусости…
15 сентября 1942
Хорошая моя! Сегодня – 15 сентября, – Юрашке 2 года, а мне 28. Крепко, крепко потормоши за меня сынку, подурачься с ним, расцелуй его – до слез. Парень-то станет совсем большим, а наше время уходит…
…Пишу это письмо, сидя в блиндаже, у самодельного очага – углубления, вырытого в песчаной земле. Погода стоит холодная, ветреная, а у огня не только греем руки, но и душой как-то отогреваемся.
Знаешь, я часто ловлю себя на мысли: очень хорошо, что где-то далеко отсюда, за сотни дней и верст от нашей фронтовой жизни, у меня осталась ты, моя девочка, наш сынка… Подумаешь, и как-то делается не так одиноко. Это великая вещь, когда знаешь, что есть куда, есть к чему возвращаться.
И я должен вернуться несмотря ни на что, несмотря на то, что мало кто отсюда вернётся живым. Мне порой кажется; сейчас я сумею сказать такую правду о человеке, что у всех, кто узнает ее, дух захватит, что я и сам стану удивляться, как я сумел её найти.
Холм
Холм пахали из орудий
Два томительных часа.
Он глядел разбитой грудью
На сожжённые леса.
Мча в пике, как на ученье,
Самолёты всех сортов
Разбомбили холм в теченье
Двух томительных часов.
Все навыворот, казалось,
Что земля сошла с ума,
Лишь название осталось,
Будто не было холма.
Пусть убитые почили,
Все же вдоль и поперёк
Пулемёты прострочили
Каждый камень и пенёк.
Лишь тогда, на всякий случай
Малость лишнего хватив,
Двинулись эс-эсы тучей
На решительный прорыв.
Но лишь кости на петлицах
Стали видимы для глаз –
Холм разбитый задымился,
Приподнялся мёртвый враз.
Злые, черные, как черти,
В пятнах крови и пыли,
В полный рост виденьем смерти
Наши встали из земли.
Встали, выросли без страха,
Словно тени мертвецов;
Иль сама земля из праха
Воскресила тех бойцов?
1942
Николай Копыльцов
Из письма Геннадию Шеварову, отцу Дмитрия Шеварова, от Николая Банникова, друга Николая Копыльцова (23 ноября 1964 года)
«…Он был годом младше меня, но как много я узнал от него, как много услышал впервые! Было в нем что-то очень лёгкое, красивое и нежное; чудесный тембр голоса, синие глаза и незабываемая золотая белокурость сразу выделяли его среди сверстников и товарищей.
…Он жил стихами, поэзией, постоянно размышлял о ней, постоянно сочинял. Дома у него был шкаф, набитый книгами: там я увидел такие сборники стихов и такие фолианты по истории литературы, каких, по тем временам, мне, наверное, долго бы ещё не привелось увидеть.
Имена поэтов, в школьных программах не упоминаемые, были ему как бы родными;…он звучным своим прекрасным голосом читал наизусть целые страницы Баратынского и Тютчева, Блока и Брюсова, Белого и Хлебникова, Ахматовой и Зенкевича. От него я услышал впервые имя поэта, скоро принёсшего нам особую радость, – имя Эдуарда Багрицкого…
***
Почему не вижу света?
Разве светом не согреты,
Разве светом не пропеты
Сердца лучшие мечты?
Иль на свете места нету
Непокорному поэту?
Иль, не вспыхнув, угасает
Отдалённая звезда?
Рэм Маркон
Янина Левкович, сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН: «Он любил книги и письменный стол, а стал солдатом…Стихи он начал писать ещё в 7-м классе, Маяковский и Пастернак были его любимыми поэтами… Его биография оказалась очень короткой. Он не успел напечатать ни одного из своих стихотворений…»
Осень 1942
Я весь во власти воспоминаний и надежд на будущую встречу. Мы ведь не только частицы в огромной машине войны, но и сама война лишь частица наших биографий. Такой она, во всяком случае, является для меня, и я с нетерпением жду, когда же она кончится, как ждешь конца неприятного объяснения.
***
Представьте, она выходит замуж,
И значит выходит – её нету.
И нет резона стреляться за даму,
К тому же нет пистолета.
Начинают знакомые охать и ахать,
«Как же!», «Неужели?..», «Такая молодая».
Я им отвечаю: прошу не лапать,
Потому, что она святая.
И тут заплачу, и станут люди
Глазеть на небо: «Откуда слякоть?»
А я буду сидеть на воде и хлебе
И буду плакать, плакать, плакать.
***
Отбросьте прочь воспоминаний груз,
Внимайте рассказу о будущих днях,
Когда время с подъёма пойдёт на спуск,
В быстроходности споря с полётом яхт.
Будет ночи прощальной крут перелом,
Новый день откроет новый счёт,
Как будто между ночью и днём
Незаметно встал кто-то ещё.
Ласки милой шепнут мне – «меня возьми!»
Завтра новый счёт, это старый вздор.
И ответят навстречу глаза мои:
Кто возьмёт и уйдёт, тот и трус, и вор.
Будет дружба тесней, будет злоба острей,
Будут вина пьяней, чем когда-нибудь,
Потому, что назавтра новый день,
Потому, что назавтра новый путь.
1937–1939
Михаил Кульчицкий
25 апреля 1940
В Москве сейчас очереди, в комнате утром темно от ног очереди. Думаю: так и моя мама где-то стоит.
22 июля 1941
…Письма мне пишите на арбатский адрес, так как во время отпуска я захожу иногда туда, чтобы сменить белье. Этой ночью немцы опять не дали спать, несколько самолётов прорвались, но их отогнали, и в Москве опять все в порядке. Крепко вас целую. Любящий вас сын.
…Ни о каком таком поэтическом творчестве не может быть пока речи, ибо мы зверски устаём от ночных нарядов. Но я теперь втянулся и уже не устаю, и настроение бодрое.
Пилотку надо носить набекрень, звёздочка над носом, и мне это нравится, так как придаёт бравый вид. Ну, пока. Миша.
* * *
Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
Вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: «лейтенант»
Звучит: «Налейте нам!»
И, зная топографию,
Он топает по гравию.
Война – совсем не фейерверк,
А просто трудная работа,
Когда,
черна от пота,
вверх
скользит по пахоте пехота.
Марш!
И глина в чавкающем топоте
До мозга костей промёрзших ног
Наворачивается на чёботы
Весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
Чешуи тяжёлых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
С ежедневными Бородино.
26 декабря 1942, Хлебниково – Москва
Моисей Рыбаков
15 апреля 1943
Здесь тоже весна и почки набухли, и птицы резвятся промеж «мессеров». Все признаки уже налицо. По вам скучаю сейчас, весною, особенно остро. Выйдешь вечером: в нашей стороне Полярная звезда светит, и так тебя в лирику и ударяет.
Июль 1943
Здравствуйте, мои дорогие! Пишу опять с нового места. Вчера перебрались в село недалеко от Михайловки, всего 12 километров. Деревушка маленькая, на голой степи, с заколоченными окнами. Снова обосновались: разместили людей, разместились сами и с утра уже начали работу. Завертелась машина. О стихах не может быть и речи…
***
Честное слово, что горевать!
Жить – через все бои.
Губы солёные целовать,
Жаркие губы твои.
Даже не знал, как счастливо мы
Жили тогда, до войны.
Горести – мимо. Потоку тьмы
Нас не согнуть. Мы сильны.
У каждого что-то своё позади:
Горы, река, тайга,
Русые косы на крепкой груди,
Свет и тепло очага…
Честное слово – что горевать!
Жить – через все бои.
Яростней, злее с врагом воевать,
Чтобы вернуться и целовать
Нежные губы твои.
1942
Владимир Калачёв
***
Я кормил коня из рук травою,
Вороного быстрого коня…
Он кивал красивой головою,
Ржаньем звучным нежно звал меня.
Бил он в землю тонкою ногою,
И в глазах горел лихой огонь.
Удила кусал и под дугою
Рвал аркан мой быстроходный конь.
Я кормлю коня, пою и холю,
Крепь и прыть, и силы берегу.
На коне помчусь я завтра в поле.
На заре. Цветами на лугу.
Буду видеть я и буду слышать –
Ноздри тонкие коня дрожат,
Конь мой трепетно и ровно дышит,
В удилах упрямо рот зажат.
Не пади, не выдай, конь мой милый!
Доскачи до цели, быстрый конь.
У меня в крови бушуют силы,
У меня в крови горит огонь.
1937
***
Собери котомку, мама,
Положи мне в узелок
Две рубашки полотняных,
Полотенце да платок.
Да ещё вот захвачу я
Томик Блока, чтоб в пути,
Вспомнив девушку родную,
Строчки нежные найти.
Где-нибудь в горячем бое
Кровь польётся ручейком,
Рану жёсткую закрою
Твоим беленьким платком.
Собери бельишко, мама.
Утром раньше разбуди.
Не печаль меня глазами –
Путь далёкий впереди.
1938
Кукушка
Я на лодке, никем не замечен,
По реке задремавшей плыву.
Хорошо в этот медленный вечер
На прибрежную глянуть траву.
Приближается грань горизонта,
И на грани заката – пожар,
И глаза отвести неохота,
И чего-то становится жаль.
Тишина. Неоконченность линий.
И не трогаю даже весло.
По зеркальности заводи синей
Без движенья меня понесло.
Покачнулась звезда золотая
Над водой, но не тонет до дна.
Закричала кукушка, – считаю,
Сколько раз прокукует она.
1943
Иосиф Ливертовский
Иосиф – сестре 27 февраля 1936
Здравствуй, Бэллочка. Ты просишь уже напечатанных стихов, но, к сожалению, литературная страница ещё не вышла и выйдет неизвестно когда… Ничего с неба не падает.
Мне не нужно ни от кого титула, мне не нужно никакого звания, мне нужно овладеть языком – понимаешь? – русским языком. И я добьюсь этого. Это вошло в мою страсть, во всё моё существо.
Стихотворение может заставить меня смеяться, плакать, страдать, блаженствовать…
В поезде
Окно и зелено, и мутно,
В нем горизонта полоса;
Её скрывают поминутно
Мимо летящие леса.
Стреляет темень фонарями,
А звезды с ними заодно
Стремятся низко над полями
И режут наискось окно.
Их быстрота неимоверна,
Они подобны беглецу;
Они сбегаются, наверно,
Обратно к старому крыльцу.
И хочется бежать полями,
Бежать, подобно беглецу,
За звёздами и фонарями
Обратно к старому крыльцу.
Запутанной лесной тропою
Достиг бы я того звонка,
Когда б не знал, что не откроет
Дверей мне милая рука,
Когда б не знал, что по откосам
Другой состав стремится вдаль,
Что у тебя в глазах печаль,
А думы мчатся вслед колёсам.
1940
Ананий Размыслов
Из письма другу Федору Щербакову, 1943
…Какая-то горечь на сердце, что мы в мирное время недостаточно дружили и любили…Мы должны беззаветно сражаться, чтобы в будущем мы или наши братья и сестры могли провозгласить ещё более крепкую дружбу и любовь. Я буду ещё сильнее бороться за право на жизнь нежных стихов и песен.
Ариан Тихачек
14.12.1942
Уже неделю лежу в госпитале в Саратове. Теперь я пишу стихи (на фронте совсем не писал). Но писать о фронтовой жизни прямо органически не могу, тяжело вспоминать. И я ударился в эпиграммы, сатирические стишки и отвлечённую лирику.
Посылаю стишок, который я написал в альбом одной девушке. Она учится в 10-м классе, который шефствует над нашим госпиталем. Стихов у меня уйма, всех не перепишешь.
В предыдущем письме я обещал вам описать, как меня ранило. Но лучше не буду. Так и быть, расскажу обо всем подробно, когда домой вернусь. Елене специально перед сном буду рассказывать. Она ведь любит слушать перед сном страшные вещи…
Напишите, что знаете о ребятах… Если увидите кого из девчонок, дайте мой адрес.

31.12.1942
Здравствуйте, дорогие мои! Не выполнил я все же обещания написать всем к Новому году стихотворения. А пока предлагаю вашему вниманию одно стихотворение, написанное ночью. Ночью я сочинил и запомнил, а утром по своему обыкновению записал. Песня ли это, романс ли или просто стихотворная элегия – это уж вы сами решайте.
Часто ночью мне не спится,
Вспоминаю о былом,
Вспоминаю ваши лица,
И мечта летит как птица
В наш состарившийся дом.
Даже горе и печали,
Пережитые тогда,
Счастьем мне казаться стали.
Нам все то, что потеряли,
Лучшим кажется всегда.
Сердце ждёт желанной встречи,
Все мечты мои у вас.
Я мечтаю, как под вечер,
У горящей сидя печи
Я начну вам свой рассказ.
Про войну рассказов много
Привезу я вам с собой.
Нелегка была дорога
Смерть в глаза смотрела строго,
Не один был жаркий бой.
Понял жизнь я по-иному.
Юность! Ты уж за спиной.
Не вернуться вновь былому.
Скучно! Сердце рвётся к дому.
И тоска везде со мной.
Прошу прощения за такую панихидную вещь, но ведь иногда бывает и грустно. Тут папа может и музыку присочинить. Живу по-старому. Похаживаю на костылях. Вчера ползал на 4-й этаж на концерт.
Достали мы патефон и много хороших пластинок. Сейчас как раз завели «Брызги шампанского». Как напоминает эта музыка наши школьные вечера! Прямо хоть на одной ноге с костылями танцуй. Ха-ха.
Прочитал только что Лескова «Обречённые». Я его ещё ничего не читал. Хорошо пишет. Ну, дорогие мои, с будущим счастьем!
Сирень
В саду, полном вдумчивой лени,
На фоне густой синевы
Раскинулись ветви сирени
В кайме потемневшей листвы.
А рядом в таинственной сени,
Пугливо привстав на забор,
Срывает букеты сирени
Какой-то неопытный вор.
Я крался, изранив колени,
От злобы стучало в висках…
Увидел же – ветки сирени
У девушки стройной в руках.
И гнева уж не было тени,
Я понял: не зря говорят,
Что в чудной лиловой сирени
Таится любви аромат.
18 июня 1941
Ночь в санбате
Глухая ночь. Горит в углу коптилка.
У печки дремлет девушка-сестра.
Соломы на полу набросана подстилка.
Я, лёжа на спине, бесцельно жду утра.
Трещат дрова, железная печурка
Сквозь дверцу на стену бросает слабый свет.
Я закурил. Дым вьётся от окурка.
А рана все болит. Всю ночь покоя нет.
Начнёшь стонать – не легче: боль все та же.
Начнёшь мечтать – боль гонит и мечты,
Как будто бы всю ночь стоит на страже,
Чтоб мучить и томить под кровом темноты.
Ноябрь 1942
«Фронтовая душа»
С одним противным типом
Знаком я с давних пор.
Он вечно болен гриппом,
Но первый паникёр.
«Меня, – кричит, – не троньте –
Я слаб и болен весь.
Душа моя на фронте
И только тело здесь».
На службе он беседу
Одну ведёт всегда:
«Скажите, что к обеду?
Всё тот же суп-вода?»
Когда ему знакомый
Тихонько намекнёт,
Что, дескать, хватит дома,
На фронт, мол, твой черед,
Кричит он: «Вы не троньте,
Я тоже знаю честь:
Душа моя на фронте
И только тело здесь».
Когда, что город взяли
В последний слышно час,
Он скажет: «Фу! Как мало!
Вот десять бы зараз.
Нас только мучить знают,
Трудись, не ешь, не спи.
Они там наступают,
А тут за них терпи.
Но вы меня не троньте,
Без нас вояки есть.
Душа моя на фронте
И только тело здесь».
1943
Георгий Суворов
Первый снег
Веет, веет и кружится,
Словно пух лебедей,
Вяжет белое кружево
Над воронкой моей.
Улетает и молнией
Освещает, слепит…
Может, милая вспомнила,
Может, тоже не спит.
Может, смотрит сквозь кружево
На равнину полей,
Где летает и кружится
Белый пух лебедей.
1943
* * *
Мы тоскуем и скорбим,
Слезы льём от боли…
Чёрный ворон, чёрный дым,
Выжженное поле.
А за гарью, словно снег,
Ландыши без края.
Рухнул наземь человек –
Приняла родная.
Беспокойная мечта –
Не сдержать живую…
Землю милую уста
Мёртвые целуют.
И уходит тишина…
Ветер бьёт крылатый.
Белых ландышей волна
Плещет над солдатом.
1944
Дмитрий Удинцев
05.10.1943
Дорогие дядя Боря и тетя Катя! Живу хорошо!.. Сейчас солнечный осенний октябрьский день. Лежу на торфяной кочке у палатки с радиостанцией. Пользуюсь вынужденным бездельем, чтобы написать вам.
Вчера пришёл новый командир вместо раненого несколько дней назад. Хороший парень, как, впрочем, и большинство людей здесь на фронте. У нас ведь все проще, чем в тылу. Простота нравов и первобытная красота на торфяных кочках нехоженой земли.
И название у деревеньки самое мирное – Овечки. Только эти овечки проклятый Ганс превратил в одно название. Но и жить ему там осталось недолго.
Тишина. Ползёт муравей по моей полевой сумке, да разговаривает наша артиллерия. Задушевный разговор, запах от мха и елового молодняка пьяный, пьяный.
Солнце праздничное, и настроение у меня чудесное. Потому и сел вам писать. Надеюсь, что скоро вы будете в Москве. Ну, будьте бодры и здоровы. Целую. Дима
Из детского альбома и отроческих стихов
* * *
Как загадочно все на земле,
Все покрыто пеленой туманов.
И плутают, как во сне,
Люди в тёмном сумраке обманов.
Как страшно на этой земле,
И как много всего злого.
И лишь ясно тому во тьме,
Кто поверил в истинного Бога.
Рождественский сочельник, 1931
(автору 11 лет)
Из поэмы «Три года» (глава о 1942-м)
Январь, февраль. На Волге пустыри.
Визгливые запевы до зари.
В нависшем небе – «рамы», «костыли»,
Проклятые немецкие затеи.
И даже в марте не было весны,
И нашу кровь не волновали сны,
Окопною водой унесены
В далёкий угол фронтовой траншеи.
И мы в мечтах гнилой картофель ели.
Следы приличий стёрлись и слетели,
Когда завистливо на котелок глядели
Голодные солдаты у костра.
Мы смотрим прямо в завтра и в вчера.
Немногие в чумные вечера
Держались твёрдо. Чёрная пора
Согнула остальных и в грязь свалила.
Я был солдат и сам тогда упал,
И не жил я, а лишь существовал.
Больной и вялый нехотя жевал,
И о мечтах былых не вспоминал,
А выбраться на свет не стало силы.
И все-таки я должен был брести.
Все мины и снаряды на пути
Я звал на голову свою. Нести
Мне надоело котелок дырявый.
О подвигах военной громкой славы
Не вспоминал я. Просто до поры
Хотел убраться из плохой игры,
Устав карабкаться на склон горы,
И на идущих равнодушно глядя.
Я не хотел участвовать в параде,
И сам не знаю, как тогда я встал –
Должно быть, руку мне мой друг подал…
Я пробудился и уже не спал.
Декабрь 1943
Мирза Геловани
2 апреля 1942
Видите, мама, как затянулась наша разлука. Годы идут. И будущее очень неясно, хотя я верю, что вернусь вместе с победившей армией и вновь почувствую себя около вас маленьким мальчиком. Все же кто знает, когда все это произойдет!
Лето 1944
Почему не напечатали моих стихов, неужели они недостаточно искренни?.. Сегодня дождливый день. Обычный белорусский дождливый день. Дождь моросит беспрерывно, и мне кажется, что он идёт нарочно, чтобы разозлить людей. Так происходит иногда и в душах людских, начнётся непрерывный дождь, моросит, моросит, моросит…
19 июня 1944
Устану, ослабеют сильные руки, перетрудится сердце, но достаточно задуматься – перейти черту обыденного, встретиться с поэзией и красотой, как исчезает усталость.
Жди меня
К тебе вернусь я поздно или рано,
Развею и туманы, и дожди,
Своей улыбкой залечу все раны,
Ты только жди меня, родная, жди.
Я соберу друзей легко и скоро,
Их выстрелы с ветвей стряхнут росу.
Сниму я небо, раскачаю горы
И в дар тебе, родная, принесу.
И ты услышишь медленные песни
Своих подружек, названных сестер,
О юности, что скрылась в поднебесье,
О витязе, к тебе пришедшем с гор.
Зурна начнёт твою улыбку славить,
Ей басом отзовётся барабан,
И каждый, кто придёт тебя поздравить,
От знойного маджари будет пьян.
…На скатерти небес я справлю свадьбу.
Но чтоб её не омрачила ложь,
Мне лишь одно вдали хотелось знать бы,
Что ты меня, не уставая, ждёшь.
1942
Перевод Ю. Полухина
Владимир Булаенко
* * *
Мама! Осень в дыму. Поскорее коня!
Вытри слезы – война повсюду.
Ветер шапку снял, он зовёт меня
Вдаль, навстречу стальному гуду.
Слышишь, трубы зовут? Не грусти, не тужи.
Не молись, не упрашивай Бога.
А уж если убьют – так конь прибежит
И заржёт в тоске у порога.
1941
Перевод Л. Смирнова
Виктор Рачков
Из очерка Д. Шеварова о В. Рачкове:
В 1941 году Виктор, только поступив в МАИ, уехал на фронт к отцу, комиссару сапёрной бригады. Там ему присвоили звание младшего сержанта. Он водил полуторку. После этого у него был выбор – вернуться в МАИ или поступить в пехотное училище. Виктор выбрал училище.
Перед этим он был на короткой побывке дома. Проходя мимо зеркала, не узнавал себя.
…Бог знает, что произошло тогда с ним. В каком-то беспамятстве он сжёг все свои бумаги.
…Летом 2016 года младший брат Виктора Анри Васильевич Рачков нашёл три пожелтевших листочка и узнал почерк Виктора…
Анри Васильевич Рачков родился в 1926 году в Козьмодемьянске. В 1951 году окончил Военный институт иностранных языков, с 1951 по 1954 год – военный переводчик в Группе советских войск в Германии. 30 лет работал в ТАСС, в Центральном аппарате и в странах Африки: Сомали, Замбии и Ботсване. Вот что он вспоминал о брате Викторе.
***
Он был большой фантазёр. Ещё в раннем детстве сооружал из стола, стульев, полок и другой мебели какую-то невиданную машину, сажал в неё и меня, и мы вместе путешествовали по разным африкам и америкам, по всему миру. Я тогда и слов-то таких не знал и о странах не ведал, а он знал и мечтал о них.
Мне, любившему математику и физику и не мечтавшему о путешествиях, довелось поездить по разным странам, в том числе странам Восточной Африки. Получается, что я осуществил его заветную мечту. В школе он любил географию, литературу. И быть бы ему писателем, путешественником, а мне, может быть, физиком. Если бы не война, которая все перемешала, перепутала.
***
В своём классе Виктор выпускал знаменитую на всю школу стенную газету. А еще он вел дневник. Уже после войны и его гибели в одной из оставленных им тетрадей
я прочитал удивительную запись, в которой он предсказал Великую Отечественную. «Оканчиваю школу, – писал он ещё в 1939 году, в 8-м классе, – начинается война. На войне нас окружают, попадаю в плен. Бегу к партизанам. После победы оказываюсь за границей, путешествую по всему миру…»
Последняя запись в дневнике Виктора Рачкова, 1942
Мой май девятнадцатый в грозном году сражений сорок второго года встретил… дома. Но скоро еду. Куда? Увидим. На фронт. В Африку… Ух, интересно!
А тебе моё завещание… Слушай, мой спутник вечный. Ты со мной всегда, везде. Давно не говорили с тобой. Уеду… Когда приеду? И как не хочется (ужасно!) – мои собственные, не разделённые, затаённые, выношенные только во мне мысли и робкие мечты кому-нибудь достанутся! Нет! Не хочу… не могу! Самое драгоценное сожгу. Иду свершать. Теперь легче стало…
Пока версталась статья, пришло известие, что 11 июля 2020 года брат Виктора Рачкова журналист Анри Рачков, помогавший автору книги в поисках сведений о поэте, покинул этот мир.
Анри Васильевич ушёл на 95-м году жизни, успев получить в подарок книгу, в которой одна из глав посвящена жизни и творчеству его старшего брата. Успев увидеть на страницах сборника фото из юности, где Анри и Виктор запечатлелись с отцом.
Меньше чем за месяц до своего ухода, 19 июня, Анри Васильевич написал Дмитрию Шеварову: «Получил Вашу книгу. Читаю. Порадовался, что и мои слова обрели вторую жизнь. Полистал дальше и… комок в горле. Какие же ребята погибли. Как раз на взлете».

При взгляде на старый снимок думается: теперь семья воссоединилась.
Записка из помянника
Из мартиролога молодых поэтов, погибших или умерших от ран, болезней и контузий во Время Великой Отечественной войны
Всеволод Багрицкий (19.04.1922–26.02.1942)
 Техник-интендант 1 ранга, служил в редакции газеты «Отвага» 2-й ударной армии Волховского фронта. Сын поэта Эдуарда Багрицкого.
Техник-интендант 1 ранга, служил в редакции газеты «Отвага» 2-й ударной армии Волховского фронта. Сын поэта Эдуарда Багрицкого.
Стихи писал с детства. Занимался в театральной студии, которой руководили Алексей Арбузов и Валентин Плучек.
Написал песни к спектаклю «Город на заре», который с февраля по май 1941 года прошёл с успехом сорок два раза. Участвовал в написании пьесы «Дуэль».
В июле 1941 года начал работать в «Литературной газете». Одновременно поступил на первый курс Литинститута, но не проучился и до первой экзаменационной сессии – обратился в Политуправление РККА с просьбой направить его во фронтовую печать.
До войны был снят с воинского учёта из-за сильной близорукости. На фронте писал стихи, очерки, вёл дневник. Подружился с поэтом Павлом Шубиным, корреспондентом «Фронтовой правды».
Погиб в деревне Новая Кересть в районе Мясного Бора. Всеволод беседовал с героем будущего очерка, офицером-зенитчиком, когда началась бомбёжка. После налёта бойцы распахнули дверь в избу и увидели, что поэт и его герой лежат друг против друга.
Багрицкого похоронили на опушке леса у высокой сосны, на которой художник редакции газеты «Отвага» вырезал: «Поэт-воин Всеволод Багрицкий. Убит 26 февраля 1942 года». И тут же – строки Марины Цветаевой, которые Всеволод часто вспоминал:
Я вечности не приемлю,
Зачем меня погребли?
Мне так не хотелось в землю
С любимой моей земли.
На смену Всеволоду в газету «Отвага» направили Мусу Джалиля.
В марте 1942 года в приказе по институту против фамилии Багрицкого значится: «Отчислить как погибшего на фронте Великой Отечественной войны…»
Останки поэта были найдены в 1968 году поисковым отрядом «Сокол» в Новгородской области и перенесены в кенотаф на Новодевичьем кладбище рядом с могилами отца и матери.
По материалам книги «Ушли на рассвете»
Издательство Российской газеты,
[ad_2]