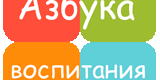[ad_1]
Тарковский – любимый поэт взрослых. Глубокий, пронзительно-религиозный, философски-непростой, – автором, пишущим для детей, он никогда не был. Но краткое время благословенной тишины, довоенное детство, и в зрелости было его вдохновением.
Райские корни детства питают взрослую поэзию Арсения Тарковского неслучайно. Редкость среди советских поэтов – человек церковной религиозности, полюбивший труды религиозных философов – Тарковский испытал первый опыт веры не умом, а сердцем – в раннем, почти младенческом возрасте.
Детство его прошло в городке Елисаветград под Херсоном. Это была первая и главная прививка счастьем. И его оказалось так много, что хватило на всю жизнь.
Родившийся 25 июня 1907 года поэт сам себя в письмах называл елочной игрушкой в вате – так надежно, спокойно, укромно жилось в родительском доме. Театр и литература – то, чему радовались и в чем находили утешение все Тарковские.
Отец переводил западноевропейских классических авторов, но не ради заработка, а из удовольствия, для себя. В доме постоянно звучали стихи. В городишко с живописной природой приезжали на отдых столичные поэты, так что здесь читали свои произведения многие поэты Серебряного века, те же Бальмонт и Северянин.
Гражданская война всё обрушила. Детство оборвалось на лучшей ноте. Дом перестал быть домом. Четыре года бродяжничества и вынужденных «пряток» от властей с голодом, холодом, лишениями, шитьем сапог и рыбацким делом – и юный Тарковский наконец прибивается к дому московских родных.
И всё же, это уже не тот – первый – счастливый – его детский дом. Тоска по нему, состояние метафизической бездомности и вечного кочевья теперь так и будут «выстреливать» в стихах…
В столице Арсения принимает круг зрелых поэтов. принимает как одного из своих. Но пока поэзия для него – не отдушина, радость, а, скорее, рабочая лошадка: Тарковский живет переводами стихов народов СССР, переводит километры строк, а сам пишет от случая к случаю, про запас. Только к пятидесяти выйдет его первый сборник стихов «Перед снегом», а пока – затишье…
Но вернемся к детскому времени.
В стихотворениях о детстве райское блаженство бытия ребёнка не отменяет болезни, боли, голода.
Смерть мамы и ее появление в тонких снах, страхи и переживания восприимчивого ребенка с чутко резонирующей душой, – всё это есть, но так или иначе преображенное, подсвеченное теплотой желто-оранжевого абажура из детской.
Да, начало его творчества и время, когда стихи впервые попали в печать, разминулись на десятки лет. Долгое вызревание сделало вино поэзии еще более терпким, придав ноту благородной горечи.
Вот чудо: в стихах, посвященных воспоминаниям Тарковского о его раннем детстве и юности, нет не только эпического драматизма, свойственного поэту, – нет даже никакой лёгкой горчинки, напротив – звенящая лесная тишина, сладость разнотравья, полнота чувствования, видения и слышания.
Так полно и сильно может ощущать только безгрешное существо лет пяти. Как взрослому человеку, прошедшему войну, лишения и личные трагедии, потерявшему ногу и отчасти – веру в людей и самого себя, удается возвращаться в это райское состояние – загадка дара Тарковского.
Был ли поэт в душе ребёнком? Вряд ли мы сможем об этом достоверно судить. Но вот инфантильным, сентиментальным – точно не был.
Из воспоминаний об Арсении Тарковском –Лариса Миллер:
«…Он так любил шутить и так легко отзывался на шутку. Помню, как сняв с полки самодельную книжку Даниила Хармса, он, покатываясь со смеху, читал его стихи и прозу.
…Помню как он беседовал с моим маленьким сыном о том, что каждый человек похож на какое-то животное. “А я на кого похож?” – спросил Т. “На обезьяну”, – ответил мой сын. Т. был счастлив, у него на диване всегда жила большая плюшевая обезьяна.
Иногда он немного играл, и не всегда удавалось понять, серьёзен он или шутит…Даже когда он в самом деле плохо себя чувствовал и на лице его было страдальческое выражение, он, едва заслышав что-нибудь смешное, мог мгновенно просиять и расхохотаться».
Но и перевоплощаясь в своего внутреннего ребенка, автор не перестает быть волевым и зрелым мужем. Верно, поэтому в этих стихах нет и не может быть примитивного наива, умаления своей взрослой мудрости, стилизации под «детскость».
Правда, достоверность, никакого притворства. Автор делится своим внутренним миром без сочинительства. Здесь всё другое: ритмы, интонации, размеры стиха. В некоторых стихотворениях Тарковский как поэт едва ли узнаваем даже знатоками и любителями своего творчества.
Это он – и не совсем он: большеглазый ребёнок с ангельски-удивленным выражением редкостно красивого одухотворенного лица.
Ткань стиха пронизана обжигающими библейскими аллюзиями, от которых чистота и ясность «детского» восприятия взрослого поэта обретают еще большую силу.
Читатель не может не вздрогнуть, читая, например, такое:
Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала, как флейта, звучать.
Я ловил соответствие звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зелёных ладов проходя, как комета,
Я‑то знал, что любая росинка – слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге ярко стрекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл.
Не будем пытаться давать оценку тому, что оценить в полной мере невозможно. Гениальность необъяснима – обратившись к Библии, на примере псалмопевца Давида мы в который раз убедимся – поэтический дар сродни пророческому.
Поэзия – одна из тайн Бытия. И, читая о детстве у Андрея Тарковского, мы с этой жгучей тайной близко соприкасаемся.
Арсений Тарковский, стихотворения разных лет
***
Под сердцем травы тяжелеют росинки,
Ребёнок идёт босиком по тропинке,
Несёт землянику в открытой корзинке,
А я на него из окошка смотрю,
Как будто в корзинке несёт он зарю.
Когда бы ко мне побежала тропинка,
Когда бы в руке закачалась корзинка,
Не стал бы глядеть я на дом под горой,
Не стал бы завидовать доле другой,
Не стал бы совсем возвращаться домой.
1933
***
Был домик в три оконца
В такой окрашен цвет,
Что даже в спектре солнца
Такого цвета нет.
Он был ещё спектральней,
Зелёный до того,
Что я в окошко спальни
Молился на него.
Я верил, что из рая,
Как самый лучший сон,
Оттенка не меняя,
Переместился он.
Поныне домик чудный,
Чудесный и чудной,
Зелёный, изумрудный,
Стоит передо мной.
И ставни затворяли,
Но иногда и днём
На чем-то в нем играли,
И что-то пели в нём,
А ночью на крылечке
Прощались и впотьмах
Затепливали свечки
В бумажных фонарях.
***
Я в детстве заболел
От голода и страха. Корку с губ
Сдеру – и губы облизну; запомнил
Прохладный и солоноватый вкус.
А всё иду, а всё иду, иду,
Сижу на лестнице в парадном, греюсь,
Иду себе в бреду, как под дуду
За крысоловом в реку, сяду – греюсь
На лестнице; и так знобит и эдак.
А мать стоит, рукою манит, будто
Невдалеке, а подойти нельзя:
Чуть подойду – стоит в семи шагах,
Рукою манит; подойду – стоит
В семи шагах, рукою манит. Жарко
Мне стало, расстегнул я ворот, лег, –
Тут затрубили трубы, свет по векам
Ударил, кони поскакали, мать
Над мостовой летит, рукою манит
И улетела…
И теперь мне снится
Под яблонями белая больница,
И белая под горлом простыня,
И белый доктор смотрит на меня,
И белая в ногах стоит сестрица
И крыльями поводит. И остались.
А мать пришла, рукою поманила –
И улетела…
1966
Зима в детстве
I
В жёлтой траве отплясали кузнечики,
Мальчику на зиму кутают плечики,
Рамы вставляют, летает снежок,
Дунула вьюга в почтовый рожок.
А за воротами шаркают пильщики,
И ножи-ножницы точат точильщики,
Сани скрипят, и снуют бубенцы,
И по железу стучат кузнецы.
- Мерещится веялка
А в доме у Тарковских
Полным-полно приезжих,
Гремят посудой, спорят,
Не разбирают ёлки,
И сыплются иголки
В зеркальные скорлупки,
Пол серебром посолен,
А самый младший болен.
На лбу компресс, на горле
Компресс. Идут со свечкой.
Малиной напоили?
Малиной напоили.
В углу зажгли лампадку,
И веялку приносят,
И ставят на площадку,
И крутят рукоятку,
И сыплются обрезки –
Жестянки и железки.
Вставай, идём по краю,
Я всё тебе прощаю.
То под гору, то в гору
Пойдём в другую пору
По зимнему простору,
Малиновому снегу.
1967
***
Позднее наследство,
Призрак, звук пустой,
Ложный слепок детства,
Бедный город мой.
Тяготит мне плечи
Бремя стольких лет.
Смысла в этой встрече
На поверку нет.
Здесь теперь другое
Небо за окном –
Дымно-голубое,
С белым голубком.
Резко, слишком резко,
Издали видна,
Рдеет занавеска
В прорези окна,
И, не уставая,
Смотрит мне вослед
Маска восковая
Стародавних лет
Зима в лесу
Свободы нет в природе,
Её соблазн исчез,
Не надо на свободе
Смущать ноябрьский лес.
Застыли в смертном сраме
Над собственной листвой
Осины вверх ногами
И в землю головой.
В рубахе погорельца
Идёт Мороз-кащей,
Прищёлкивая тельца
Опавших желудей.
А дуб в кафтане рваном
Стоит, на смерть готов,
Как перед Иоанном
Боярин Колычёв.
Прощай, великолепье
Багряного плаща!
Кленовое отрепье
Слетело, трепеща,
В кувшине кислорода
Истлело на весу…
Какая там свобода,
Когда зима в лесу.
1973
***
Хорош ли праздник мой, малиновый иль серый,
Но всё мне кажется, что розы на окне,
И не признательность, а чувство полной меры
Бывает в этот день всегда присуще мне.
А если я не прав, тогда скажи – на что же
Мне тишина травы, и дружба рощ моих,
И стрелы птичьих крыл, и плеск ручьёв, похожий
На объяснение в любви глухонемых?
Книга травы
О нет, я не город с кремлём над рекой,
Я разве что герб городской.
Не герб городской, а звезда над щитком
На этом гербе городском.
Не гостья небесная в черни воды,
Я разве что имя звезды.
Не голос, не платье на том берегу,
Я только светиться могу.
Не луч световой у тебя за спиной,
Я – дом, разорённый войной.
Не дом на высоком валу крепостном,
Я – память о доме твоём.
Не друг твой, судьбою ниспосланный друг,
Я – выстрела дальнего звук.
В приморскую степь я тебя уведу,
На влажную землю паду,
И стану я книгой младенческих трав,
К родимому лону припав.
1945
Сверчок
Если правду сказать, я по крови – домашний сверчок,
Заповедную песню пою над печною золой,
И один для меня приготовит крутой кипяток,
А другой для меня приготовит шесток золотой.
Путешественник вспомнит мой голос в далёком краю,
Даже если меня променяет на знойных цикад.
Сам не знаю, кто выстругал бедную скрипку мою,
Знаю только, что песнями я, как цикада, богат.
Сколько русских согласных в полночном моем языке,
Сколько я поговорок сложил в коробок лубяной,
Чтобы шарили дети в моем лубяном коробке,
В старой скрипке запечной с единственной медной струной.
Ты не слышишь меня, голос мой – как часы за стеной,
А прислушайся только – и я поведу за собой,
Я весь дом подыму: просыпайтесь, я сторож ночной!
И заречье твоё отзовётся сигнальной трубой.
Чем пахнет снег
Был первый снег, как первый смех
И первые шаги ребёнка.
Глядишь – он выровнен, как мех,
На ёлках, на берёзах снег, –
Чем не снегуркина шубёнка?
И лунки – по одной на всех:
Солонка или не солонка,
Но только завтра, как на грех,
Во всём преобразится снег.
Зима висит на хвойных лапах,
По-праздничному хороша,
Арбузный гоголевский запах –
Её декабрьская душа.
В бумажных колпаках и шляпах,
Тряпье в чулане вороша,
Усы наводят жжёной пробкой,
Румянец – свёклой; кто в очках,
Кто скалку схватит впопыхах
И в двери, с полною коробкой
Огня бенгальского в руках.
Факир, вампир, гусар с цыганкой,
Коза в тулупе вверх изнанкой,
С пеньковой бородой монах
Гурьбой закладывают сани,
Под хохот бьётся бубенец,
От ряженых воспоминаний
Зима устанет, наконец.
И – никого, и столбик ртути
На милость стужи сдастся днём,
В малиновой и дымной смуте
И мы пойдём своим путём,
Почуем запах госпитальный
Сплошного снежного пласта,
Дыханье ступит, как хрустальный
Морозный ангел, на уста.
И только в марте потеплеет,
И, как на карте, запестреет
Там косогор, там буерак,
А там лозняк, а там овраг.
Сойдёшь с дороги – вязнут ноги,
Передохни, когда не в спех,
Постой немного при дороге:
Весной бензином пахнет снег.
Бензином пахнет снег у всех,
В любом краю, но в Подмосковье
Особенно, и пахнет кровью,
Остался этот запах с тех
Времён, когда сороковые
По снегу в гору свой доспех
Тащили годы чуть живые…
Уходят души снеговые,
И остаётся вместо вех
Бензин, которым пахнет снег.
Белый день
Камень лежит у жасмина.
Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день.
В цвету серебристый тополь,
Центифолия, а за ней –
Вьющиеся розы,
Молочная трава.
Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.
Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.
Вернуться туда невозможно
И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством
Этот райский сад.
Автор вступительной статьи Валентина Патронова
[ad_2]